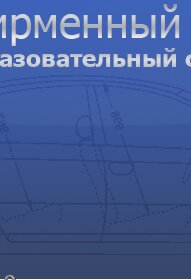Тогда, оживая, зашумят дряхлые сосны на известковой вершине, всклубится белая пыль подобно отросшим кудрям сказочного богатыря, с треском расколется какой-нибудь камень на утесистом лбище, родив новую морщину — живую, раздумчивую; и тогда вдруг почудится: встрепенулся Молодецкий курган от глухого вековечного сна, и пригрезилось ему былое под шум взыгравшей волны и разбойный посвист буревого ветра...
Такое предание можно услышать в прикурганном селе Жигули.
Взял Степан Разин Самарскую крепостцу, потопил в Волге-реке всех бояр да начальных людей и стал на радостях бражничать.
Вдруг видит он: тащит есаул Черноус плененную боярышню. На ней зеленая распашница травушкой-муравушкой переливается, по подолу лисий ме х стелется, рукава рубахи шелковой алеют ярче утренней зорьки, и по ним жемчуга пущены. Но краше всего сама девица-боярышня: глазок карий, коса до пят, грудь лебединая.
х стелется, рукава рубахи шелковой алеют ярче утренней зорьки, и по ним жемчуга пущены. Но краше всего сама девица-боярышня: глазок карий, коса до пят, грудь лебединая.
— Эй, есаул! — окликнул Разин.— Где словил такую красу ненаглядную? Куда ведешь? Уж не мне ли в услаждение?
— Нет, не тебе, батька атаман. Самому пришлась по сердцу.
— Ой, отступись, есаул! Отдай красу-девицу на ночку, а там твоя навек будет.
Да горд, неотступчив был есаул Черноус: недаром богатого купецкого рода.
— Лучше,— говорит,— убей меня, батька, только живым не разлучай с лебедушкой.
Призадумался Степан Разин, потом как тряхнет черными с проседью кудрями:
— Врешь! Никогда баба не будет промеж вольных казаков распрю чинить!
Выхватил он из-за серебряной запояски кривую татарскую саблю и отсек лебедушке голову.
— Вот,— смеется,— и спору конец!.. Али ты не согласный?
Ничего не ответил есаул Черноус, лишь взглянул исподлобья на веселого батьку атамана и отошел, унося в сердце злобу на него и тоску-жалость по молодой посеченной красе.
Еще три дня и три ночи бражничал Степан Разин в Самарской крепостце — без роздыха, во всю сласть души веселился-буянил после долгих ратных побоищ, а на четвертый день сказал ему, до смерти охмелевшему, брат Фролка:
— Синбирск надо воевать немешкотно, не то в вине и разгулиях все холопьи вольности потопим.
Вмиг протрезвел атаман:
— Твоя правда, брателко! Снаряжай струги!
Днем отплыли вверх двести стругов — черных, в смоле вываренных. Непогодилось по-осеннему: дождь да ветер верховой, волна мутная, с прискоком.