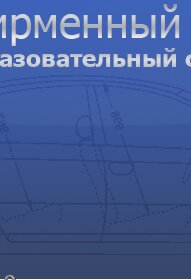хоть лихо разбежались разинцы со столбами подхватными, норовя пролом учинить,— устояла крепостца, а осадчиков полегла добрая сотня.
— Эй, Разя Степашка, костоглот, лихоимец! — завопил на радостях воевода Милославский со стены кремлевской,— Хочешь узреть, что с тобой, разбойником, будет вскорости?
Вывели бояре на самую высокую башню человека, обтесанного как бревнышко: ни рук у него, ни ступней, даже уши вырваны, нос расплющен, глаза выколоты, потом облили его варом, подпалили и сбросили вниз, будто головешку чадную.
Разин повелел того несчастного доставить к нему в шатер, и два казака отважных исполнили атаманскую волю— на рогоже приволокли обгор елого страдальца. Наклонился над ним Разин и учуял слабое дыханье, тут же вином из ендовы облил, чтоб привести его в чувство, потом спросил:
елого страдальца. Наклонился над ним Разин и учуял слабое дыханье, тут же вином из ендовы облил, чтоб привести его в чувство, потом спросил:
— Кто ты будешь, добрый молодец?
И ответил мученик, лишенный подобия людского:
— То ж я, батька атаман, твой верный есаул Черноус.
— Как же ты в крепостце у Милославского очутился?
— А вот только я к Синбирску подошел с казаками своими, как налетел на нас орел — крылья в полнеба — и раскогтил мне грудь, глаза повыклевал. Тут я, батька атаман, лишился памяти, а опомнился в кремле, и там меня вымучивали поганые собаки-бояре.
— Ну, прости меня, есаул, — сказал Разин,— Я думал, это ты обманный овин запалил и все мое воинство предал.
— Нет, ты прости меня, батька, — отвечал Черноус, — что волю твою не сполнил до конца.