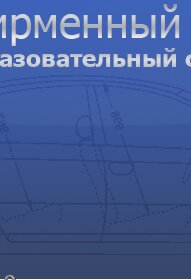Его длинная узкая лодка шла медленно и опасливо, под глухую стукотню моторчика, а он сам только изредка позади себя пошевеливал левой рукой — правил рулем — да чуть приметно клонил голову с боку па бок: приглядывался к плывущему сору, к сопливым кувшинкам, которые и обозначали теперь, при тумане, верное речное устье.
— А вон, ка жись, солнышко взошло! — вдруг сказала- пропела женщина, и лишь тогда Автомобиль оторвал от воды сосредоточенный взгляд и посмотрел вверх.
жись, солнышко взошло! — вдруг сказала- пропела женщина, и лишь тогда Автомобиль оторвал от воды сосредоточенный взгляд и посмотрел вверх.
Да, где-то уже всходило солнце! Белесая мгла, еще недавно напластанная над головой, теперь тепло зажелтела в глухой выси, точно прижженная невидимыми лучами; даже можно было заметить, как колебались ее слон — и вдруг тонко вытягивались, разрывались, свертывались...
Весь туманный призрачный мир стал сворачиваться в рыхлые клубы и медленно всплывать в просветленную высь, чтобы затем растаять подобно холодному беззвучному дыханию; а на смену ему уже являлся другой мир — земной, реальный. Он то подступал к лодке бурой щетинкой осоки, то подплывал каким-нибудь островком с воткнутой в него мачтой-жердиной — печальной памятью былого остожья, то резко прочерчивался угольной чернью мокрых голых деревьев и возвещал о себе вороньим карканьем. Автомобиль насторожился. Меж его палкообразно вытянутых ног лежало ружье; слыша голодное разбойничье карканье, он подхватил ружье свободной правой рукой, в то время как левая продолжала управлять рулем. И когда с ближней вербы встрепанная, злая сорвалась ворона, он выстрелил навскидку — и ворона, кувыркаясь, рухнула вниз.
— Во как мы ее! — победно-громко оповестил Автомобиль и сбоку веселым шальным глазом быстро глянул на женщину. Но та, оглушенная выстрелом, уже ничего не слышала, не понимала. Лицо ее съежилось от испуга, как бы втянулось под сползший платок и крохотно белело в глубине; зато глаза были огромны и темпы, без блеска. Они с диким испугом взирали на Автомобиль, но его, кажется, не видели.
— Ну что испугалась, дурочка?! — прикрикнул лодочник.— Да будет тебе известно: я, отпетый молоковоз, еще и в охотничьих инспекторах числюсь. Мне, согласно высшему приказу, надо за лето истребить двадцать пять ворон. Ни больше, пи меньше! А то они, разбойники, утиные гнезда разоряют, и благородной птице от них житья нету.
Из темных глаз женщины вдруг хлынул такой сильный, потаенный свет, так лучисто и кротко проглянула из них успокоенная душа, с такой проникающей куда-то в глубины чужой души ласковостью, что Автомобиль вздрогнул. Ему стало казаться, что где-то, когда-то он видел эти удивительные глаза.
— А ты сама-то... Ты не из выселенцев будешь сама- то? — спросил Автомобиль.
— Да, да, я — заболотская,— откликнулась женщина.
— Как же зовут тебя?
— Полиной...
Автомобиль невольно подался назад, зажмурился... Это простенькое имя будто молнией полыхнуло — и сразу озарилась мглистая память, сразу вспомнилась заболотская молодость и свет-отрада ее — Полинка.
Была Полинка румяная, кровь с молоком, крепконогая и грудастая в свои шестнадцать лет, с косой толстой, тяжелой, будто прикипевшей к спине, с кротким и ясным взглядом под пушистой соболиной бровью — самая баская девка во всем Заболотье. Как и Автомобиль, она жила в Поместове, маленькой деревушке; их избы стояли рядом, и это соседство сдружило их, одногодков, с детства. А когда они подросли, вольная простота их ребячьих нравов сама собой сменилась сдержанной молодой привязанностью. Вместе, бывало, они отправлялись копнить и стоговать сено, шли рядом, и частенько их грабли позади сцеплялись зубьями, что, по уверению стариков, служило доброй приметой.
О, эта упоительная, дружная работа на каком-нибудь дальнем лугу, при росистом холодке, под скулящее пищанье вспугнутого кулика! Она, Полинка, встрепанная, в съехавшем платке, пропыленная сенной трухой, ловко топчется па стогу, тут же и граблищем приминает утробно вздыхающее сено, а он сам, ломкий в поясе, длиннорукий, в подвернутых штанах и вылезшей домотканой рубахе-косоворотке, все кидает, забрасывает к ней на тряское верховье целые копны...
Он уже уморился: и в пояснице ноюще-приятная боль, и руки отекли, и в глазах муть от натекшего нога. Но пока солнце томится за лесом, пока обдает из западинки-низины россным холодком — нет думки об отдыхе. Лишь иногда разве Автомобиль помедлит — рукавом оботрет мокрое пылающее лицо да ненароком, в эту блаженную минуту передышки, вдруг взглянет кверху и разглядит под платьем, в его сокровенной тени, белые, как молодая береза, Полинины йоги; и несказанная прелесть их ударит ему в голову сладким хмелем, и сердце забьется тревожно и тут же замрет в отрадной и стыдливой муке.