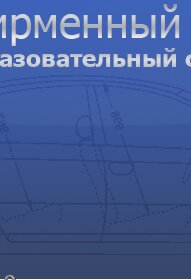— Значит, вперекор идешь? Уж не хочешь ли ты, чтоб я матросское свое житье, волю-вольную на какой- то там задрипанный колхоз променял?.. Нет, мне без Волги нельзя! И ты, если меня любишь, должна быть согласная, а но лежать па моем пути бревном-поперечиной.
— Егорушка! — воскликнула девушка. — На всю жизнь мне любить тебя одного, это уж я знаю, а только и ты меня выслушай...
— Нечего мне тебя слушать! — всплеснула в Егоре сатанинская мужская обидчивость, и качнулся он назад.— Никогда я не буду держаться за бабий подол. Не быть по-твоему, Анна!
— Ну, так и по-твоему не быть!
— Это твое последнее слово?
— Последнее, Егорушка.
— Смотри, жалеть будешь!
— Нет, это ты пожалеешь — и скоро!..
С того погожего весеннего денька все разладилось у строптивых молодых. Отныне Аннушку часто видели с Андрейкой Венчиковым — и на ферме, куда он, неловкий, в резиновых сапогах-раструбах, привозил корма с силосных кладней, и за тихим прибаньем, где оба сидели на поленницах молчком: она в легоньком полушубке выш е колен, он — в стеганом ватнике, в заячьем треухе: уж не матрос с пассажирского парохода, а простой деревенский паренек, гораздый на любую работу, покладистый, из каких обычно веревки вьют.
е колен, он — в стеганом ватнике, в заячьем треухе: уж не матрос с пассажирского парохода, а простой деревенский паренек, гораздый на любую работу, покладистый, из каких обычно веревки вьют.
Егор же Батурин теперь будто и не замечал Аннушки Матвеевой. Гордый и щеголеватый в своей отпаренной, без единой складочки, шинели, в расклешенных брюках, прохаживался он взад и вперед по улице: поджидал залетного письма — и дождался-таки!
На другой день, спозаранья, когда теплый туман, распластываясь, присасывался к остатним полевым сугробам, Егор с напористой властностью старшего ворвался в сумеречную дрему старенькой избы своего кореша.
Разговор между ними был короткий.
— Вызов капитана получил? — спросил Батурин.
— Получил,— тихо ответил Венчиков и опустил глаза.
— Собирайся живей!
— Да не могу... Мать не могу бросить: вконец расхворалась... Да и сестренка — малая...
— У-у, баба! — прошипел Батурин,— Команду хочешь подвести! Волге изменить?.. Одевайся мигом!