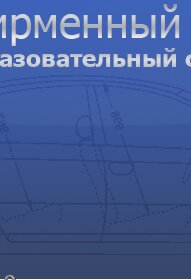Скверно было у него па душе, и сожалел оп, что пришел сюда. Не согрел его костер, только пропесочило насквозь, продуло сырым речным ветром.
— А ты чурку-то подбрось, братец, не ленись! — вдруг вырвалось со злостью у Емельяныча.— Не видишь разве, сбилось пламя!
Лысковец отпихнул от себя ногой просмоленную чурку, затолкал в огонь, потом, под веселый треск, произнес с прежней насмешкой:
— Небось скоро и щепы у вас не сыщешь, а?..
Румяный, хорошо угретый огнем, он был неприятен
Рябцеву своей нестарческой бодростью, самодовольством, которое, словно сало, вытапливалось из его румяных толстых щек заодно с испариной.
Главное же, что бесило Рябцева, ото сознание его зависимости от лысковца, как бы воплощавшего своим здоровьем процветание правобережного города и готового оказать таким же, как Рябцев, безработным сплавщикам доброе покровительство, «пристроить», «пригреть» их, если уж здесь, в стареньком Макарьеве, жизнь догорала костром и плохо согревала... И ему захотелось досадить этому самоуверенному лысковцу.
— А лес у нас вырастет! — сказал он запальчиво.— Тогда уж мы поумнее будем: и прирост, и вырубку сбалансируем.
— Вырастет! Вырастет! — подхватил Емель яныч, вытягивая шею из тулупа,— Да я, елки-стружки, возьму и уволюсь. В лесники пойду! Коли сами бед натворили, сами и расхлёбываться должны. Так, что ли, Автомобиль?
яныч, вытягивая шею из тулупа,— Да я, елки-стружки, возьму и уволюсь. В лесники пойду! Коли сами бед натворили, сами и расхлёбываться должны. Так, что ли, Автомобиль?
— Оно конечно,— пробормотал Рябцев.
— А чтоб скучно не было, - усмехнулся лысковец,— ты этого Автомобиль с собой возьми, авось вдвоем-то живей управитесь.
— Тьфу! — сплюнул в огонь Емельяныч.— Пропади ты пропадом со своими посмехушками!
— Сейчас, мигом пропаду! Вон катер подходит... Идем, Автомобиль! Нам по пути.
Потом, с катера, отплывая все дальше в буревое раздолье Волги, Рябцев безотрывно, хотя ветер хлестал в лицо, смотрел па далекий костер и жалел Емельяныча: как ему, должно быть, тоскливо там, у пустынной запани, сколько черных мыслей заползает в седую стариковскую голову!..