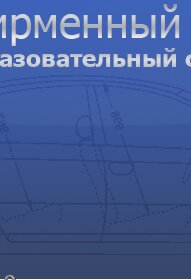И он ударил бы его по темени, оглушил, а потом мигом выхватил свой длинный разбойничий нож из кожаного футляра у пояса и с хищным проворством браконьера взрезал бы ему шею... Он ударил бы прикладом и все завершил ударом ножа, и его ноздри раздулись бы при запахе хлынувшей вишневой дымной крови, но произошло то, что обезоружило Николку Куролесина: лось упал.
И он ударил бы его по темени, оглушил, а потом мигом выхватил свой длинный разбойничий нож из кожаного футляра у пояса и с хищным проворством браконьера взрезал бы ему шею... Он ударил бы прикладом и все завершил ударом ножа, и его ноздри раздулись бы при запахе хлынувшей вишневой дымной крови, но произошло то, что обезоружило Николку Куролесина: лось упал.
Едва выкарабкавшись па береговой припай, лось упал — мешком завалился па ободранный бок, и высокие ноги, еще недавно такие стройно-тугие, с крепкой выпуклостью светлых колен, враз откинулись палками в одну сторону... Правда, он ворохнулся, его узкие копыта судорожно раздвоились, царапнули по льду; нонебыло ни сил подняться, ни опоры. И тогда безнадежно-тоскливый стоп вырвался у лося из-под верхней, тряпично обмякшей, обвислой губы, и в глазной впадине — верхней, видимой — льдисто-холодно блеснула выжатая болью, страданием тусклая слеза.
— Ишь ты, разлегся как! — буркнул Николка. — Прямо по-царски... Да только мы и таких дохлых видали! Нас, брат, не умаслишь, нет!
Он был растерян, ружье уже опустил, но ему хотелось взбодрить себя, и поэтому он усвоил этот наигранно-развязный, беспечный тон, да еще, дабы физически укрепить свою жестокость, с силой ткнул лося острием лыжи в буровато-серое подбрюшье... Лось, однако, не шевельнулся. Слабая блеклая струйка его парного дыхания, как дымок угасающего костра, возносилась вверх тонкой изгибистой ниточкой; изредка вместе с ней вырывался и все тот же безнадежно-тоскливый стон.
Огромный обессиленный зверь без борьбы, без трепета хотя бы одного мускула отдавал свою жалкую жизнь человеку. И Николка Куролесин, привычный к сопротивлению, которое лишь увеличивает ценность победы, растерялся, не мог не растеряться, ибо он, хищник в душе, все же оставался охотником но сердечной наклонности: битого не бил.
— Вот что! — решил оп с внезапностью смекалистого озорноватого малого, хотя было ему уже под сорок. — Надо, пожалуй, отогреть сохатого, а то, ишь, дрожмя дрожит.
Сквозь лоскую вьющуюся лосиную шерсть мелкими быстрыми волнами проходила текучая дрожь. А зарождались эти волны где-то на вздутой шее зверя, потом, слабея, докатывались до перекошенной спины и гасли на крестце, как-то жалко съеженном, уже, пожалуй, окоченелом.
— Эх ты, хворобина! — вырвалось у Наколки.— Сейчас
я возьмусь за тебя!