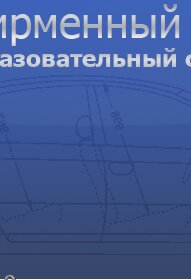И ему стало страшно своего нынешнего обличья, своих безжалостно-разбойничьих рук; и он крикнул:
— Нет! Нет!
В этом крике души прозвучало отречение от себя. Он уже горящим тревожным взглядом всматривался в немощного лося, словно от его воскрешения теперь зависела его собственная жизнь — не эта, нынешняя, с ее мерзостной бесчувственной пустотой, а та, будущая, с ее весенним молодым светом, после тусклых зимних дней.
— Надо сохатого водкой взбодрить, — наказал Николка себе. — Да, да, водкой!
Он попытался разжать лосиные челюсти. Хоть и не сразу, это ему удалось. Затем он вставил в зубастый рот приклад, чтобы челюсти не сомкнулись, и влил туда из своей дорожной поллитровкн-неразлучницы жгучую живительную влагу.
Лось дернул головой и всхрапнул, затем уже весь дернулся, оживая; а Николка Куролесин, как только опустошилась бутылка, принялся снова растирать лосиное тело размочаленным ивняком. Но сколько теперь было нежной осторожности в его быстро скользящих движениях, и каким ошеломительно-радостным было ощущение от возможности быть вот таким нежным, жалостным — как и тогда, в детстве!
Водка вывела лося из апатично-безвольной неподвижности. Резко встряхнул он свое литое тело, вдавленное в прибрежный снег, — и вскинулась кремнево-лобастая голова в светлых залысинах на месте отпавших рогов, и узко прорезались в шерсти, осмысленно блеснули глаза.
А потом лось, подтянув под себя передние ноги, крепко упершись беловатыми вытертыми коленками в лед, медленно-плавно поднялся, величаво-высоко вознес голову, огляделся... и сделал первые, еще неуверенные шаги..jpg)
— Смелей, смелей!—прикрикнул Николка Куролесин и прикладом легонько, по-свойски подтолкнул лося.
Тот сторожко повел ушами, зорко глянул на охотника одним глазом; по мирная поза человека, его благодушная расслабленность, особенно эти низко опавшие плечи и длинно оттянутые книзу руки, успокоили лося. Уже без оглядки вошел он в кустистую непролазь.
И долго еще Николка Куролесин слышал мягко шуршащее втаптывание раздвоенных копыт в сугробистые намети, крепкие похлесты упругих ветвей о лосиное тело, грузно-сырое плюханье сбитых с ветвей снежных навесей — то тревожащее прежде плюханье, которое теперь вовсе не тревожило.