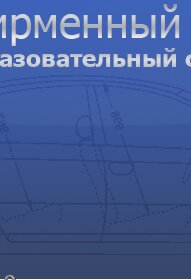Он наломал ивовых веток и, связав их в пучок, стал, остервенело водить этим жестким мочалом по запавшему боку. Тер, водил до изнеможения, до пота, а лось хоть бы встрепенулся, только стонал. И все тише, все невзрачнее становилось его дыхание в сыром тусклом воздухе зимней оттепели.
— Тоже, сыскал себе няньку! — заворчал Николка и тут же сплюнул: — Нянька и есть, да еще со стажем! Ведь я еще сызмальства возился с вашим братом, выручал...
И ему вспомнились далекие-далекие годы босого мальчишеского детства.
Однажды грозное водополье накрыло луговые травы, непроходно-чащобные леса, и гибли зайцы и полевки, лисицы и горностаи, ежи и белки. Но пуще других бедовали лоси — властители чащоб. Они путались в кустистой непролази, плавали в прибылой воде, пока не лишались сил. И тогда жители Николкиной деревни, все от мала до велика, начали вязать плоты и спускать их в воду — на радость зверью... Ох, сколько е го набиралось на эти спасительные пристанища! Зайцы и змеи, ящерицы и полевки— все ютились в добром соседстве, все были родней но несчастью. А однажды Николка увидел на плоту лося. В гордом одиночестве, вытянув чуткую морду, он стоял, худущий, на палкообразно расставленных ногах; по он был жалок, до слез одинок, и Николка уговорил отца сесть в лодку и поплыть за лосем. И они добрались до него и, наперекор сильной волне, дотянули илот до берега. И разве ж забыть, как взбрыкнул лось и с хрипом радостно-ликующим сиганул в лесную суховейную тишь Закерженья!..
го набиралось на эти спасительные пристанища! Зайцы и змеи, ящерицы и полевки— все ютились в добром соседстве, все были родней но несчастью. А однажды Николка увидел на плоту лося. В гордом одиночестве, вытянув чуткую морду, он стоял, худущий, на палкообразно расставленных ногах; по он был жалок, до слез одинок, и Николка уговорил отца сесть в лодку и поплыть за лосем. И они добрались до него и, наперекор сильной волне, дотянули илот до берега. И разве ж забыть, как взбрыкнул лось и с хрипом радостно-ликующим сиганул в лесную суховейную тишь Закерженья!..
Вдруг точно молодой весенний свет хлынул в трясинные глубины темной и постаревшей Николкиной души. И, озаренный, он вздрогнул и с тупым недоумением, почти с ненавистью, взглянул на спои грубые безжалостные руки, которые не терли, а скорей раздирали прутяным пучком запавший лосиный бок, даже, кажется, вмяли его еще больше. И он ужаснулся тому, что замыслил: спасти бездыханного коченеющего зверя ради его же будущей гибели!
«Но как же это так,— теперь недоумевал он, в нежданном озарении добрых воспоминаний, душевно размягченный какой-то солнечной теплынью, — наверно, дыханием той далекой весенней поры. — Куда же во мне девалась жалость человеческая?.. Или я сам уже зверем стал?..»