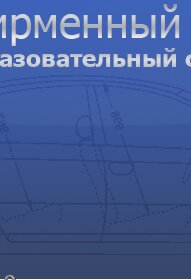Я опять прицепляюсь:
— Куда ж это нас унесет, скажи на милость, ежели мы на суше?
— На суше-то мы на суше,— молвит Пал Антоныч,— да только на плавучей, островной.
Тут я впервые  вкруг нас вода плещется, играет и вроде покачивает. Значит, и впрямь мы врезались в плавучий остров, а лучше сказать, это он по своей инициативности в нас влепился и полонил нас, горемычных.
вкруг нас вода плещется, играет и вроде покачивает. Значит, и впрямь мы врезались в плавучий остров, а лучше сказать, это он по своей инициативности в нас влепился и полонил нас, горемычных.
Как тут было не убиваться! И запел я песню, какую в младости сиротской певал:
Кабы мне, молодчику, была прежняя воля. Была б прежняя воля, были б еще крылья, Были б еще крылья, еще златы перья, Взвился бы высоко, улетел далеко...
Пал Антоныч, видя такое мое малодушество, начал меня совестить, урезонивать, потом вдруг как возгласит по-капитански:
— За борт! На сушу! Толкай лодку!
A где тут толкать? Только я, значит, ногой-то ступил на эту самую сушу, как она, веришь, квашней заходила, зафыркала. Потому — торфяная жижа, а не земная твердь.
Видим: плохое наше дело, вовсе даже погибельное. Тогда давай мы цепляться за ближнюю сосенку да к ней- то и подтаскивать свой корабль. А сосенка не устояла: нет ее корням зацепки к торфу, ну и грохнулась прямо на лодку. Едва нас не зашибла... Зато корму начисто выломала. Теперь уж никакой нам, пленникам, надежи на освобождение! И закручинился я пуще прежнего, чуть ли не по-волчьи завываю:
- Наша морская жизнь — сказка, смерть - развязка, а островина гроб-коляска, и ехать нетряско.
Вот, лада моя, как море с нами по-вражьи обошлось. Засадило на остров да еще рыбин всевозможных для соблазна выставило. Они-то прыгают па суше, хлобыстают почем зря хвостами, будто «Камаринского» отплясывают, а нам, хоть мы и рыболовы заядлые, смотреть на них тошнехонько. Одна даже стерлядка самолично в лодку заскочила мы же опять в полной бесчувственности, потому как нас, не хуже рыб, сама судьба насадила на свой крючок. Ну-ка вырвись!..
Но всему, лада моя, приходит конец.